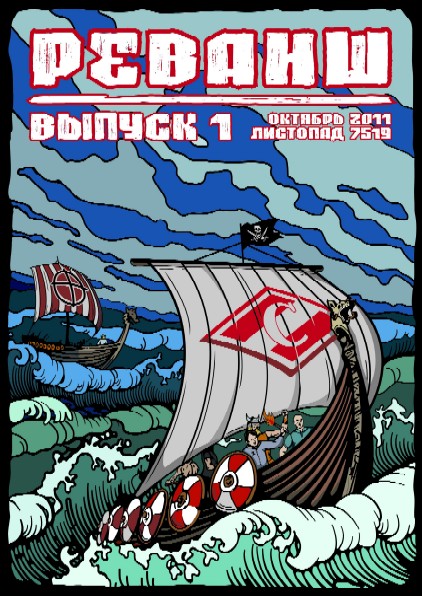Слава Дедам!
Это народная повесть про Деда, вставшего на путь войны с системой. Романтика настоящей старости. Стиль скуп и яростен. Это минимализм или просто вышибленные мозги. Повесть, публикуемая в преддверье девятомая, должна ударить по покрывшимся плесенью мозгам советских патриотов и возбудить русофобов. Впрочем, хватит пошлых предисловий! Раз это народный трэш, то просто читайте.
***
Дед проснулся с гадким чувством того, что если бы не он, то его соседей бы не было. В кишке коммуналки бегала одуревшая толпа наркоманов — это проклятый Павлик Морозов вновь устроил дискотеку. Он давно пытался выжить деда из общей квартиры.
— Эй, дед, просыпайся!
Дед молча достал стремянку и полез на антресоли. Он вовсе не собирался, как то обычно, уходить из дома. Его терпению настал конец. В тёмном закутке у Деда ещё с войны остался револьвер системы наган, патроны к нему, несколько гранат и охотничьё ружьё с хищной картечью. Когда Дед взял оружие в руки и принялся заряжать его, как будто что-то огненное сошло в ветерана. Всклокоченная борода роднила его с берсерком и Дед, зная, на что он решился, вновь почувствовал себя живым. Его несколько раз пнули, облили пивом и обматерили, пока он, копошась в углу, незаметно от пьяниц приводил в порядок оружие. И прежде чем снести шщи первому попавшемуся мажорному наркоману, который сидел в туалете и что-то тыкал себе в вену, ветеран прошипел:
— Россия для дедов, сучёныш.
Выстрел вырвал из груди клок мяса и парень, булькая, как пробитая баклажка с пивом, упал на унитаз. Дед в грохоте ненавистного ему дабстепа богатырским ударом кирзового сапога сорок шестого размера, служащих ему еще с войны, вышиб дверь в комнату Павлика. За ревущей музыкой никто и не услышал выстрела из двустволки. Возмутитель спокойствия сидел в окружении девиц, и через музыку орал им что-то весёлое:
— Да я этого пердуна пизжу каждый вечер. Скоро он подохнет, тогда вообще здесь всё заебись будет.
Ветеран обвел взглядом комнату и нашёл, что рожи, которые наполняли помещения настолько мерзки, что их следовало немедленно положить под серп репрессий тридцать седьмого года. Из колонок компьютера плевался противный африканский речитатив, и первым делом Дед вышиб мозги технике. В установившейся тишине он молчаливо перезарядил ружье, дыхнувшее на него приятным пороховым ароматом, и спросил у Павлика:
— Как ты думаешь, кто я, Павлуша?
Пьяная компания не сразу оценила дедовское ружье, поэтому один из гулявших, какой-то хрен с высокой горы, возмутился:
— Ле-е, старикан, чё делаешь, ты знаешь кто у меня братуха, да?
Дед немедленно поделил интеллект горца пополам, и вместо нуля у того осталась половинка головы. Мститель повторил свой вопрос:
— Павлик, так кто я?
Мажорный юнец пролепетал посиневшими губами:
— Вы… вы…. Настоящий человек! Я… я… даже повесть в школе читал… о вас, о дедах. «Повесть о настоящем человеке» называлась.
Все застыли. Дед покачал головой и сказал:
— Я уже не человек, я уже ветеран нахуй.
Это была неплохая эпитафия к никчёмной жизни Павлика. Разрядив ружьё в мажора, Дед приготовился к рукопашной схватке. У тусовки появился призрачный шанс на спасение. Они ещё не знали, что у Деда есть револьвер, пара ручных гранат и трофейный штык-нож, поэтому шанс растаял также быстро, как Дед вытащил наган. Ветеран палил так, как будто брал Кёнигсберг — люди лопались от попадания пуль, а тех, кто пытался вырваться, Дед забивал прикладом, или всаживал в брюшную полость любовно заточенный штык.
В живых осталась одна-единственная девка с квадратным лицом коровы, что сразу же возбудило в сердце Деда воспоминания огненной юности. Он, убирая оружие и расстёгивая штаны, ласково спросил у опешившей дамы:
— Скажи мне, деточка, как тебя зовут?
— Ма-а-а…
— Маша? — лицо Деда угасло. — Просто Маша?
Девушка сглотнула:
— Марта.
Глаза деда зажглись победным огнём:
— А какой язык ты изучала в школе?
— Не-не…мецкий!
Дед ликующе схватил ружьё и проорал, приближаясь к бабе:
— Auf die Knie die schmutzige deutsche HЭndin! (На колени грязная немецкая сука!)
Тусовщица округлила глаза:
— Что?! Я вас не понимаю…
В процесс ухаживания пришлось добавить удар прикладом, и дело сразу пошло веселей. Несколько минут окровавленную комнату оглашали дикие немецкие вопли, и на синих-синих глазах Деда, когда ему на миг показалось, что он снова находится под сенью Бранденбургских ворот, навернулась скупая солдатская слеза. Скоро всё кончилось. За неимением флага воткнув в бабу штык, Дед задумчиво закурил. Горький махорочный дымок шкурил лёгкие. Последний раз Дед курил еще на войне, когда тело, лихорадившее от убийств, требовалось успокоить. И сейчас боевая ярость медленно покидала старика.
— Не шутите с дедами.
Под кирзовыми сапогами обильно хлюпала кровь, на волнах которой, как кораблик, кружил чей-то оторванный палец. Иногда с потолка отлипал вишневый кусок мозга и с хлюпаньем падал в красную жижу. Из туалета кто-то пристыжено выл. Дед бережно достал из кармана галифе выцветшую фотографию. Помолчал, пока огонь не доел коротенькую самокрутку. Затем воин, бросая окурок в ворох бумаги и чувствуя, как начинает трещать разгорающееся пламя, сказал:
— Это всё, что останется после нас.
С этими словами Дед, лихо напялив на лохматую голову плоскую фуражку, вышел из притихшей квартиры.
***
На улице повесился май и по асфальту текли его слюни. Город выглядел так, как будто вчера в нём закончилась война, и этот вид будил в душе Деда приятные воспоминания. Разрытая канализация напоминала ему окопную жизнь, а цветущее весеннее небо, покрытое шрапнелью облачков, говорило Деду, что он поступил правильно. Но гнев его поутих, и ему стало немного совестно за то, что он учинил.
Поэтому Дед поехал к своему сыну, жившему с женой. Через полчаса она с брезгливо поджатой губой, над которой пробивалась чёрненькая щетина, следила за тем, как ест Дед. Тот, заметив её отвращение, спросил:
— Что, никогда не видела, как кушают солдаты?
Она поджала губы:
— Вы мне всё платье забрызгали.
Дед показательно оттопырил мизинец, сломанный в одной рукопашной и потому плохо сросшийся, беззвучно отпил чая из принесённого с собой граненого стакана, и куртуазно утёр салфеткой бороду. В вещмешке у его ног лежало разобранное ружьё и необходимые вещи. Дед посмотрел на старого сына, которого нагулял уже в зрелости, не по любви, а потому что не хотелось умирать бездетным, и на невестку, раньше времени превратившуюся в хмурую жабу. Они поладили всего один раз в жизни: когда Дед по своей воле съехал со своей квартиры в коммуналку, оставив личные апартаменты новоявленной семье.
— Вот скажи мне, сын, — начал Дед. — Как же вы так живёте-то, а?
Мужчина виновато развёл руками и посмотрел на жену, которая, возомнив себя Зевсом, метнула в него молнию взгляда.
— Как это живём?
Дед, сворачивая цигарку, произнёс:
— А через задницу вы живёте. Существуете, а не живёте. Квартиру я вам оставил? Оставил. На свет тебя, сынуля, произвёл? Произвёл. Ради тебя воевал? Воевал. Жизнь вам обеспечил? Обеспечил. А что же вы так поганенько живёте, ради вещей каких-то. Ради кружевных занавесочек. Ради автомобиля. Ради стиральной машины. Вот мы раньше без всего этого обходились и отлично жили.
Невестка фыркнула:
— Вот и дожили, что над вами весь мир смеётся: ничего у вас нет, ничего не имеете. Бомжи.
Муж укоризненно посмотрел на жену и начал оправдываться:
— Ну, Дед… ты не обижайся.
Дед весело махнул рукой:
— А я и не серчаю. Просто знаешь, зачем человек живет?
— Зачем?
— Чтобы не просто себя на подвиг определить, но и продолжить себя в жизни. Дети — вот что важно. А у вас их нет. Понимаешь, нет у вас детей. Не потому что не можете, а потому что не хотите. Из-за этого у меня нет внуков. Получается, я зря воевал? Ведь моих внуков всё равно нет?
Невестка покраснела и изошлась серой:
— Да вы ополоумели совсем? Вы что, не понимаете, что сейчас иметь детей невыгодно? Что мы и так бедно живём. Что у нас уже старость на подходе. Что нам… мне уже поздно с детьми возиться!
Дед примиряюще вздохнул:
— Ну ладно… ладно. Полноте вам. Я хотел спросить: можно у вас поживу малёха?
Настал тот неловкий момент, которого ждали все. Невестка цербером посмотрела на мужа, и как понял по его покрасневшему лицу Дед, даже надавила под столом ему на ногу. Сын виновато сказал:
— Прости, отец, но ты не можешь у нас остаться. Места нету, езжай в свою коммуналку, а? Я тебе еду привезу. Минералки, апельсинчиков там. Не можем мы тебя у нас поселить.
Дед удивлённо поднял густые брови:
— Почему это не можете? Я же на вас эту квартиру переписал. Или не помните ничего?
Женщина осклабилась:
— Именно поэтому помним. Помним, как вы каждое утро шумите, когда на зарядку собираетесь. Помним, как если празднуем чего, вы тут же с нравоучениями появляетесь. Один раз даже избили наших коллег по работе. Езжайте к себе, а мы вам, если хотите, деньгами помогать будем. На вашу ветеранскую пенсию ведь даже задницы не подотрёшь. А здесь мы будем жить для себя.
Дед вздохнул:
— Для себя, значит? Вот таков нынче мир — каждый для себя живет. И каждый для себя потом умирает. Потому и нет человеческого больше. Потому и детей никто не хочет заводить — слишком приятно стало жить, чтобы ещё кого-то допускать в свои владенья. Вот, помню, раньше, на фронте, все только и мечтали, что если — убьют, то хоть дети чтобы остались в мире, чтобы жили… потому мы каждую бабу мимо себя и не пропускали.
Сын поморщился:
— Ну, отец, хватит уже про войну. Когда она была? Все про неё забыли уже давно, а ты ей живёшь.
Услышав это, Дед тут же беззвучно поднялся из-за стола. На его не отцветших, как вечно голубая сирень, глазах, снова навернулись слёзы. Он потянулся рукой в карман галифе и произнес с дрожью в голосе:
— Зато я ничего не забыл.
Достав наган, он с горечью посмотрел на вскрикнувшую невестку и побелевшего сына. Он даже порадовался, что они не родили ему внуков. Потому что они были бы плоть от плоти своих родителей. Прежде чем почувствовать себя Тарасом Бульбой, Дед, глядя в глаза своему отпрыску, сказал:
— Я за тебя воевал, я тебя и убью.
Всего два выстрела понадобилось стрелку, чтобы вычеркнуть из своей жизни всю память о родственниках.
***
Дед остался один-одинёшенек. Он знал, что его разыскивают, поэтому не удивился, когда увидел на экране свою старую, немую и пожелтевшую фотокарточку. Старик хмыкнул, так как считал, что его сын не хранит изображений своего отца, ведь Дед сжёг коммуналку. Суматоха, поднявшаяся в городе, не волновала мужчину, потому что он знал, что если на кого и не обращают внимания в стране, победившей фашизм, так на стариков, сделавших это. Опасаться стоило только девятого мая, но до него была целая неделя. Дед мог быть спокоен, окружающие смотрели на него пустыми глазами животных.
Готовясь снова ночевать под мостом, Дед шёл по смежившему веки парку. Он в лунном свете снова рассматривал фотографию. На ней смеялась молодая озорная девчушка с ямочками на щеках и милым деревенским взглядом. Это была единственная настоящая любовь Деда, которую он разыскивал ещё с войны. Ветеран тихо прошептал:
— Акулина.
Сапоги месили раскисшую землю, и расстегнутые полы ватника аплодировали тёплому воздуху. Раскачивающиеся ветви деревьев почёсывали сытую луну, и Дед не сразу понял, что из неоперившегося листвой массива доносятся женские крики. Он быстро пошёл на так знакомый ему звук и увидел, как троё подвыпивших мужчин обступили ветрено одетую девушку. Они заметили его:
— Э, старый! Пошёл вон отсюдова!
Дед нахмурил густые соболиные брови. Он вспомнил, что когда-то был человеком. Более того, он вспомнил, что когда-то был русским человеком. Ведь в крови каждого русского разбойнические эритроциты. Герои нашего племени — это благородные работники густых лесов и больших дорог. Аристократия ножа и верёвки. Это не гопническая, занесенная из зоны ветрянка, а то, что белые воротнички и ботоксные губы считают плебейской ересью. Народный бунт и народная же воля. То, что утопией бьётся в сердце каждого русского.
— Ну, пердун, вали! Или хочешь присоединиться?
Дед вспомнил, как он славно погулял по Европе. Ни одна красная черепичная крыша не уцелела от красных же освободителей. Он не чувствовал себя ни скифом, ни варваром, не знал об евразийстве и то, что подобных ему называли азиатской Ордой. Он просто делал то, что считал нужным. И делал хорошо, сообразно сердцу. Долгая война преобразила воина, высвободила его волчью натуру, которая неминуемо вонзилась бы в глотку хищного коммунистического зверя, если бы не абсолютно серая, механическая диктатура советской бюрократии.
— Да дай ему в рыло.
Старик вздрогнул. Он понял, что только и делал, что искал оправдание прожитым годам. Если бы он хотел, то сгорел бы как феникс. Если бы хотел, то вонзил бы штык прямо в сердце той гадкой мрази, что называла себя порядком. Мещанство противопоказано тем, кто испробовал воли, а уж Дед напился её сполна. Сидеть надо в седле, а не в кресле. Всё обывательское тянет к земле, к вещам, к работе, к мнимому уюту, от которого хочется выть, и когда ты вдруг начинаешь понимать всю бессмысленность такой жизни, то твои руки уже слишком слабы, чтобы держать в них винтовку. И когда Дед понял, что человек подобен зажжённой спичке в океане тьмы, которая после краткого сияния превращается в скрюченный мёртвый уголёк, его обуяла злость. Бесцельно прожитое время качалось на волнах памяти и шептало ему, что он не должен останавливаться на полпути. Он хотел стать костром в котором бы трещали его старые кости, и согреть получившимся теплом как можно больше хороших людей. Когда-то Дед так и жил. Не нынешней одушевленной тушёнкой, а человеком. Быть человеком — это самая трудная задача. А теперь? Кто он теперь? Старик, не вытерпевший унижения и решивший, что ему нечего терять? Нечего терять…
— Ну, всё, тварь, ты огребаешь.
Но Дед уже потянулся к револьверу. Он вдруг понял, что человек, которому нечего терять, становится опасней льва. Ветеран произнёс, целясь в насильники:
— Шёл бы ты отсюда, внучёк.
Через минуту трио ещё возбуждённых трупов лежали рядом с рыдающей девушкой. Никогда столько мужчин разом не падали к её ногам. Девушка всё еще машинально натягивала юбку на колени. Она была сильно похожа на Акулину: красивая своей наивностью, прекрасная ещё не сошедшей с лица юностью. Сердце Деда запылало. Он приобнял девчушку за плечи и начал её успокаивать:
— Ну, не плачь дочка. Всё прошло. Ты ещё родишь от любимого человека много будущих Дедов.
***
Деду было плохо. Ему было решительно некуда податься. Проводив до дома спасённую девушку, он не посмел попросить переночевать у неё, и снова спал в какой-то канаве. Несколько раз в ещё сохранивших ясность мозгах мелькнула мысль пойти и сдаться в полицию, но он быстро вытравил из себя это советское пораженчество. За поясом, прикрытым старой курткой, торчала пара гранат. Наган, сухпай, и портрет молодой Акулины. Бывало, он выигрывал бой и с меньшей экипировкой. Но раньше рядом с ним сражались товарищи, а теперь вокруг находились лишь одни ублюдки.
Вокруг Деда сновали малолетки с ягой, которые искали что-то хоть отдалённо напоминающее ковер, чтобы сфотографироваться на его фоне для аватара. Проезжали битые девятки с небитыми хачами внутри. В небе пропердел самолёт, увозивший очередную партию временных эмигрантов на заблёванный песок Турции. Дед, долго не появлявшийся в людных местах, оголодал, и смотрел на мир с широко открытыми глазами: он явственно понял, что люди живут для вырождения, что это и не люди больше, а мотыльки, которые прилипли к слишком горячей лампе общества потребления.
Конечно, Дед думал не в таких образах, потому что он читал в своей жизни не так много книг, поэтому его мысли сублимировались в куда как более простой фразе: «За что я воевал?» Не получив ответа на глас вопиющего в пустыне, Дед решил, что нельзя останавливаться на достигнутом. Рано или поздно его поймают, поэтому Дед ухмыльнулся в окладистую бороду. Если мир отвернулся от тебя — пни его со всей силой под задницу.
Для борьбы нужны деньги, поэтому Дед решил снять все свои сбережения. Он не был знаком с методами работы полиции, так как не смотрел телевизор и не думал, что его могут попытаться задержать. Он зашёл в банк, чтобы снять все деньги, а именно две тысячи рублей со счёта, и увидел стандартное объявление: «Ветераны войны обслуживаются без очереди». Когда Дед попытался осуществить то право, за которое он воевал четыре года, на него набросилась очередь.
— Встань в конец!
— Куда прёшь?
Одна жирная тётка с бородавкой на щеке, и вовсе провозгласила:
— Да ветеранов уже не осталось. Они все умерли!
Дед опешил:
— Да как же… я самый настоящий. У меня осколки даже в теле есть!
Тётка выдала слюнявые пузыри:
— Вы фальшивый ветеран! Знаем мы таких. Ходят по очередям, чтобы время весело провести, а нам ещё на работу сегодня!
Очередь одобрительно загудела. Деда негрубо оттеснили, и ряды мелких и средних буржуа, которые так любят хранить кучки своих сбережений в банке, сомкнули потные ряды. Эти овеществлённые люди, утратившие сходство с человеком, но превратившиеся в гефестовы автоматы, произвели в голове ветерана подобие французской революции. Ему тут же захотелось взять штурмом какую-нибудь Бастилию. Поэтому, достав из-за пояса наган, он прокричал:
— Окаянные немцы, это ограбление!
На него с недоумением посмотрели все присутствующие. Никто и не подумал в ужасе упасть на пол. Дед, хлопнув себя по лбу, выругался:
— Тьфу ты, старость — не радость. Это просто ограбление! Деньги в мой вещмешок! Шнеле!
Охранник, всё тело которого мигрировало куда-то в район живота, и теперь оттягивало ремень аж до коленей, даже и не пытался сопротивляться. Его мама всегда говорила, чтобы он не связывался с хулиганами, а вид Деда в мятом ватнике и галифе, заправленным в огроменные сапоги, ненавязчиво говорил, что он ещё тот отморозок. Когда напуганная работница потрошила кассу, Дед воинственно оглядывал посетителей, и его густая борода внушала всем суеверный ужас. Вещмешок, набитый награбленным, будил фронтовые воспоминания солдата, и Дед сладостно улыбнулся. От этой улыбки, больше напоминающей попытки акулы показать добродушной, пара дам грохнулась в обморок. Готовясь к победному отступлению, ветеран прокричал:
— Кто поднимется с пола в течение пяти минут, тот пожалеет, что меня не убили на войне!
И Дед, схватил вещмешок, быстро скрылся во дворах, а потом, изловив частника, поехал в другой конец города.
***
Сняв квартиру, Дед столкнулся с проблемой о которой раньше не задумывался — как бороться с режимом? На войне всё просто: выполни поставленную задачу любым доступным тебе способом. Но как воевать в собственной стране? Какие методы должны быть в арсенале старого вояки? Дед не знал ответ на этот вопрос.
А пока город гудел от известий о жестоких преступлениях, совершённых пожилым человеком. Он был объявлен в федеральный розыск, а на его фотороботе чистили копченую рыбу в каждом отделении полиции. Он даже не мог выйти на улицу, так как боялся быть опознанным. Поэтому, глядя в зеркало, Дед решился на экстремизм. Он достал опасную бритву и побрился налысо так, что с торчащей бородой и лысой черепушкой стал похож на черносотенца-старообрядца.
Произведя чисто русскую пластическую операцию, Дед прибарахлился. Во-первых, он избавился от старого сталинского ватника, который ему подарили на пятидесятилетие победы, и купил вместо него пиджак и красную спортивную куртку. О такой он мечтал ещё с семидесятых. Он хотел было избавиться от вещмешка, который помнил награбленное от Сталинграда до Берлина, но солдатские воспоминания помешали ему сделать это. На бритой голове Деда по прежнему покоился плоский блин кепки.
Что делать дальше — он не знал, поэтому решил осторожно выйти в город. Там как будто ничего не происходило, лишь иногда ему встречался фоторобот опасного преступника. В транспорте Дед стоял, молча глядя на то, как сидения оккупировали молодые люди. Около окна, на котором был наклеен плакат, посвященный близящемуся девятомаю, стояли два парня. Дед обратил внимание на бритую, как и у него, черепушку, и здоровенного амбала в спортивном костюме, который сосредоточенно намазывал клеем какую-то бумажку, которую затем аккуратно приклеил на лицо воина-освободителя. Сердце Деда ожгло огнём, но он не мог позволить себе вмешаться, ведь он находился в федеральном розыске, поэтому старик с надеждой оглядел лица пассажиров, но все они молчали или предпочли отвернуться. И только высокий бритый парень, не отличающийся с виду физической мощью, криво улыбнувшись, сорвал наклеенное объявление, скомкал его в липкий ком и бросил под ноги удивлённому гопнику.
Тот возбудился, как при виде халявного пива:
— И чё, это, ты зачем сделал, на?
Обыватели смотрели в сторону, но внимательно слушали. Гопник собрался для очередной мысли, и тут голос высокого парня почти сорвался на крик, чтобы все, от мала до велика в автобусе, обратили внимание на происходящее:
— Так ты же наклеил объявление на… Великую! Отечественную! Войну!
Сердце Деда зажглось пламенной благодарностью, в воображении прогремел победный салют, и под бурю зарождающегося народного возмущения, гопник неуверенно спросил:
— Эээ, и чё?
Парень не унимался:
— Как чё? Это же Великая! Отечественная! Война!
Дед почти аплодировал, когда парень закончил:
— Фашист! — обвинял он опешившее тело. — За что воевали наши деды?!!
Автобус пришёл в полное негодование, когда парень выскользнул на остановке, а старик поспешил за ним. Дед подбежал к молодому человеку и сказал:
— Спасибо!
***
— Дед, ты что, за Родину хочешь воевать?
Группа бритых парней с недоверием смотрела на старика. Никто из них не узнал разыскиваемого преступника, и они думали, что перед ними распинается просто городской сумасшедший. Дед же абсолютно серьёзно кивнул:
— Я уже воевал, и ещё хочу. Только один в поле не воин, даже дед.
Вова, высокий скинхед, с которым познакомился Дед, почесал за ухом и сказал:
— Ладно, хрен с тобой. На акции проверим, кто ты есть. Если убежать не сумеешь — дело твоё. Хоть ты и воевал, но народ наш этого не понимает. Может и отмудохать.
Дед насупил брови:
— Русские не бегут. Русские догоняют.
Когда они гудящей толпой шли на акцию, Дед радовался, что нашёл соратников. Парень привёл его к товарищем, молодость и задор которых заразили Деда энергией. Сначала молодежь над ним потешались, но когда старик в шутку заломал одного из основы, то к нему начали относиться уважительно. Теперь Дед думал, что пойдёт с молодой силой как минимум на штурм администрации, что они погромят собез, что взорвут пенсионный фонд, и поэтому, когда отряд остановился у фруктовой палатки, воин испытал некоторое разочарование. Вова начал говорить:
— Так, надо снова попячить этого арбузника. Мы его уже угнетали один раз, но он снова отстроил свою палатку. Если мы не можем вынести хотя бы одного хача, то и об освобождении Руси говорить не приходиться. Дед, ты стой в стороне.
И молодежь понеслась вперед. В считанные мгновения тяжелые ботинки разметали лотки с фруктами. Хозяин палатки, здоровенная горилла, которая могла бы дублировать в кино Кинг-Конга, неистово взревел от возмущения. Он схватил нож, которым резал химические китайские арбузы и замахал им перед отпрянувшими парнями.
— Мои арбузы! Мои арбузы!
Газ не действовал на озверевшего зверя. В него начали кидать его же яблоками, которые он, то пожирал на лету, то рассекал обагренным арбузной кровью ножом. Вокруг скапливались ненужные свидетели, и ряды наступающих постепенно таяли. Атака захлебнулась, и Дед понял, что спасти положение может только напоминание о подвиге Матросова:
— Расступись!
Он выбежал вперед, воздел ногу и с силой впечатал кирзачом сорок шестого размера в грудь вражины. Хрустнуло. Торгаш согнулся и упал на отчаянно защищаемые им апельсины, выжав из них мутный коричневатый сок. Вова, наблюдавший за представлением, присвистнул:
— Вот что значит дух сорок пятого!
Поверженный противник больше не вставал и Дед, коим овладело безумие, проорал оставшимся вблизи скинам:
— Грабь всё, что видишь! Вы что, не русские что ли?
Он тут же подбежал к худому пареньку, почти до конца расстегнул его безразмерный бомбер и стал молниеносно засовывать туда связки бананов, яблоки, апельсины. В боевом раже он попытался засунуть в чужой бомбер и арбуз, но тот туда не влез, и Деду пришлось нести его в руках. Старик ощутил себя гордым викингом с северного фьорда, своевольным славянином, грабящим продажную девку — Византию, бичом Востока, Юга и Запада, и он решил, что отныне всегда будет так ходить за фруктами.
В тот вечер вся бригада впервые не только напилась, но и наелась досыта.
***
— Смотрите, внучки, — наставлял Дед. — Чтобы проткнуть человека нужно совсем немного усилий.
Он сделал резкий выпад вперёд и тут же отступил назад.
— Коли — отступай. Коли — отступай. Главное, чтобы штык в рёбрах не застрял. Чтобы проткнуть человека нужно совсем немного силы приложить. Это ведь не девка.
Парни засмеялись. Ветеран показал ещё пару движений, и визжащий чёрный человек, которого держали бритые парни, и в которого Дед назидательно тыкал палкой, с визгом вырвался и застрял где-то в глотке подворотен.
Лидер бритых сказал:
— Отлично! С этими знаниями мы точно победим проклятого арбузника!
Дело было в том, что наглый торгаш отстроил новую палатку. Она была краше прежней, и при желании в ней можно было торговать автомобилями самых дорогих марок. Разведка, которую наладил Дед, доложила, что оккупант обзавелся огромным тесаком. Но это никакого не испугало, потому что все были воодушевлены примером Деда.
— Вперед сынки, за Родину, на арбузницу!
Ватага двинулась по уже знакомому маршруту, чтобы арматурой, ножами, кулаками и газовыми баллончиками поддержать русский малый бизнес. Арбузник действительно отстроил свой гуляй-город, укрепив его рядами деревянных ящиков. Он хмуро смотрел, как напротив его точки оскалённым полумесяцем выстраиваются погромщики. Лицо торговца по цвету напоминало сливы, которыми он торговал. Но он и не думал отступать, и, достав упомянутый тесак, проорал:
— Подходи, угощу!
Строго говоря, это и не тесак был, а почти что меч. Даже осадный двуручник, которые иногда достигали двух с половиной метров длиной. Это был тесак, которым можно было расчленять говяжьи туши или всадника вместе с конём. Хач завертел им над головой, как ниндзя и теперь всё это стало напоминать какую-то фэнтезийную алебарду. Атака захлебнулась, ещё не начавшись, и тогда Дед выступил вперёд и сказал:
— Помните ещё одну главную мудрость. Современная война — это бесконтактное столкновение.
С этими словами он подошел к палатке, в которой, сверкая глазами, забаррикадировался торговец, схватил раздутый от химикатов арбуз, и запустил его в голову обороняющемуся горцу. Точность оказалась как у крылатой ракеты, и торговец был повержен. Голиаф рухнул, и это послужило сигналом к спонтанному грабежу, к которому присоединились не только бритые, но и простые прохожие. Некоторые, как заметил Дед, были здесь ещё при первом набеге, и теперь ждали, когда можно будет обнести вырубленного хозяина. Через несколько минут от палатки с фруктами не осталось ничего, кроме поверженного хача, лежащего в расколовшейся арбузной мякоти.
После победы Дед, забрав мясницкий тесак торговца, спросил у Вовы:
— Крушить арбузницы это весело, но когда мы будем заниматься чем-нибудь посерьёзней?
Скин важно кивнул:
— Да, сегодня вечером мы пойдём на концерт.
***
Ходить на концерты Дед любил. Он помнил, как ещё на фронте к ним приезжали артисты, в которых однажды попал артиллерийский снаряд, и Станиславский бы точно воскликнул «верю», когда кишки театралов разметало по сучьям. Посещал он и дома культуры, и официальные праздники, стараясь блеснуть своей удалью. Поэтому на концерт, куда его позвали, он нацепил все ордена, покрывшие его ещё могучую грудь звенящей кольчугой. Дед навернул новые портянки и начистил сажей сапоги сорок шестого размера, над которыми он, как учили, подкатал купленные джинсы. Из-за пояса торчал тесак, а во внутреннем кармане к груди была прижата фотокарточка дорогой Акулины. Дед поглядел в зеркало и погладил кустистую бороду:
— Хоть сейчас в женихи.
Вокруг клуба крутились какие-то непонятные тщедушные личности, которые по-конски ржали, уродуя свои и без того не сильно славянские лица. Белые кроссовочки, худенькие ноженьки, обтянутые поддельными китайскими штанами. Поло, забитые рукава. Кто-то, надев шорты, щеголял икрами с гангреной татуировок. Появление Деда в этой компании произвело настоящий фурор. Сначала его начали фотографировать и громко ржать, а потом к нему подошли несколько человек одетых в спортивное:
— Слушай, а дед, а ты что, вытиран?
Дед был уже стар на ухо, поэтому сказал:
— Да.
— Значит и собак поёбываешь?
Дед посмотрел на вопрошающего тяжёлым, свинцовым взглядом:
— Чего?
В этот момент другой парень, вид которого говорил, что в его предках точно была обезьяна, начал дёргать медальки на груди у старика, презрительно держа их двумя пальцами:
— Матёрый вытиран!
Петухи закукарекали вокруг Деда, хлопали руками-крыльями и щекотали, как будто это были женщины, его боевые награды. Дед спокойно произнёс:
— Шли бы вы отсюда, внучки.
Парни загоготали и пуще прежнего запрыгали вокруг ветерана, выплясывая хардбасс:
— Ко-ко-ко! Вытиран! Ко-ко-ко!
Какой-то финно-угор, чей предок в лучшем случае пас свиней, победно выкрикнул:
— А мой дед был штурмфюрером СС! А ты дед — говноед!
Дед молча потянулся к ремню и достал отобранный тесак. После этой нехитрой процедуры все желающие могли наблюдать забавную картину. Группа спортсменов, если судить по кроссовкам и полосатым спортивным штанам, кукарекая, в ужасе бежала от старика в сапогах и подкатанных джинсах, который вздымал к небу огромный тесак и орал:
— Стоять, петухи!
***
Когда нечестивцы были порублены, а белые полоски на их спортивных костюмах стали грязно-красными, Дед решил примерить обновку. Ему всегда хотелось носить кроссовки, но денег хватало только на портянки. Теперь на ноге сидели новые кроссовки «Айр макс». Дед сделал пару шагов и кроссовки развалился.
— Тьфу ты. Говно носит говно.
Дед стал одевать любимые сапожища, и в это время его снова окружили. Краем глаза он заметил те же самые кроссовки, те же спортивные штаны с белыми полосками и модные кэжуальные курточки. Дед выхватил тесак:
— Ну что, паскудники, кому каши из топора?
Ему закричали:
— Ты что, дед, мы же антифашисты!
И правда — вокруг стояли пидорасы. Дед вгляделся в их лица: сплюснутые, свиные, косые, слепленные по-пьяни через анал, вкривь и вкось какой-нибудь бригадой таджиков. Будто над их физиономиями потрудился ребенок даун. Ладно форма, но что-то подсказывало Деду, что внутри у антифашистов тоже был перегной. Дед оглядел этот человеческий Вавилон и спросил:
— И чё?
— Как чё, — не унимался шимпанзе с пирсингом. — Как чего?
— Ну, вот я и спрашиваю, чё?
— Как чё? Ты же за нас воевал! Ты же тоже антифашист старой школы!
Дед задумался. Он никогда не считал себя антифашистом. Такая метафизика была для него слишком сложна, поэтому он с каждой секундой всё больше проникался ненавистью к хлопающим его по плечам парням.
— И сейчас ты карлату фашистскую порубил. Мы сами хотели их моб накрывать на концерте, а ты всех один разогнал. Вступай к нам, мы всегда за ветеранов были.
Дед оглянулся. Мало того, что в нём гроздьями гнева вызревала злость на то, что он не понимал, на каком языке говорят пришедшие, так их ещё и с трудом можно было назвать людьми. Кто же это вообще был? Деду не хотелось обижать говно сравнением с антифашистами, поэтому он не мог ответить на данный вопрос. Здесь были все недостающие звенья эволюционной цепочки Дарвина. Скособоченные. Вытянутые и сложенные пополам. Лица, в которых застыл уродливый славяно-азиатский коктейль. Дед смотрел, как два антифашиста потрошили помойку и чавкали гнилыми помидорами. Они крикнули:
— Браток, щас и мы тебе что-нибудь покушать найдём!
Деда чуть не стошнило. Австралопитек, ходивший у антифашистов в лидерах, снова хлопнул ветерана по плечу и сказал:
— Дед, если бы не ты, то нас бы не было.
По щеке Деда сбежала скупая мужская слеза, и он сказал:
— Я это понимаю. И сейчас исправлю.
Дед с криком воздел к небесам ещё окровавленный тесак субкультурной войны. Антифашисты завизжали и вместо того, чтобы убегать, пали ниц, что только облегчило работу уставшему старику. В тот вечер не было красивого заката, но мир получил много красного. И даже одну чью-то отрубленную руку.
Ветеран же с чувством выполненного долга отправился на концерт.
***
Дед долго не понимал, почему на сцене выступает не ансамбль балалаечников, а татуированный накаченный мужик, рычащий в микрофон. К тому же, в ушах надрывалась безобразная хардкорная музыка. Те парни, с которыми Дед вчера как следует выпил по случаю победы над арбузником, теперь налепили на кулаки чёрные кресты и бросились в центр пульсирующей человеческой свалки. Дед с недоумением оглянулся по сторонам: люди, отклячив задницы, били кулаками невидимого противника, махали ногами и прыгали друг на друга. Старик почувствовал, как его подхватили чьи-то руки и впихнули в самый центр слэма. Через четыре минуты Дед пострадал так, как не пострадал за четыре года войны. Выползя из толпы на четвереньках, старик с матом поднялся, отряхнулся, и, свернув голову фляге, которую принёс с собой, выпил первача. После чего Дед занюхал рукавом и во всю луженую глотку прокричал:
— Э-э-эх, ухнем!
С этими словами Дед пошёл махать руками, вспомнив древнюю деревенскую забаву, где он был первым молодцом. Смекнув, что одних рук недостаточно, Дед добавил в кордебалет и движения ног. Каждый раз, когда Дед вскидывал ногу, обутую в громадный кирзовый сапог сорок шестого размера, он сворачивал несколько угрюмых лысых шщей. Когда Дед изображал арабеску левым сапогом, то поверженными падали такие амбалы, что им по плечу пришелся бы труд атлантов. И хоть на его кулаках не было крестов, которые, как думал Дед, придавали магическую силу пляшущим мош, его питал самогон, который ветеран употреблял большими глотками.
Со всех сторон раздавалось:
— Дед, хватит! Дед, ты нереально угарел!
Те немногие смельчаки, что отважились помешать старику веселиться и прыгнули на него, уже с воем отползали в сторону. За ними по полу волочились кровавые индюшачьи сопли. Дед был бы и рад остановиться, но его подвел старый вестибулярный аппарат, да и затуманенный мозжечок приказывал ему плясать дальше. Какая-то неведомая сила охватила ветерана, закружила его в танце, он носился по залу, не в силах с собой совладать. Старика раскачивало, и он, с каждым поворотом могучего туловища, раскидывал в сторону слушателей. Пол уже был усеян телами павших, и когда Дед наступал подошвой кирзача на бритые черепушки, они потрескивали статическим электричеством. Была повержена и охрана, а доносящиеся сквозь музыку стоны просили деда перестать.
— Не могу остановиться, братцы, — кричал Дед. — Не могу!
Когда вокруг Деда не осталось прямоходящих, он увидел последнюю возможность остановиться. Его потянуло к вышке, на которой была установлена музыкальная аппаратура. Деда впечатало в неё, и он поначалу благостно остановился, но вышка начала медленно крениться, пока с грохотом не упала на сцену, и не придавила вопящего от восторга вокалиста. Тот думал, что в такое неистовство публику привело его выступление, поэтому музыкант потерял сознание с улыбкой на устах. Дед тихо пополз к выходу, потому что ходить он не мог: ему срочно требовалось прилечь. Разгромленный зал стонал и шипел от боли, а немногие выжившие жались по стеночке. Кто-то, глядя на него, просипел:
— Вот что значит хардкор старой школы.
***
Дед понуро сидел на скамейке. Бригада оставила его, сказав, что он для неё слишком радикален. Вова, лежащий в больнице, так и сказал Деду. После концерта все уехали в больницу с травмами разной тяжести. Сам Дед считал, что нынешний народ измельчал, потому что по нему самому как-то на войне проехал свой же танк, и от этого у него сломалась гусеница. Вспомнив о войне, Дед загрустил, достал из кармана фотографию Акулины, и посмотрел в её выцветшие, но такие же ясные очи.
— Где ты? С кем ты? Жива ли?
Он хотел взрывов и картечи, а всё, что могло ему предложить молодое поколение — это танцевать хардбасс. Дед решительно не знал, что делать. Ему было трудно сориентироваться в современном мире. Но тут его внимание привлёк голос старушки, которая стояла с костылем на бетонном крылечке и не могла спуститься. Она попыталась подозвать к себе какую-то молодку с пузом, которое свисало даже со спины, но та и не подумала оглянуться. Тогда Дед подошёл к бабке и подал ей руку:
— Держитесь.
Бабушка благодарно спустилась с приступки и вздохнула:
— Не та нынче молодежь пошла. Я вот спустилась, чтобы себе яблочко купить. Прибавку к пенсии получила.
Старик безразлично махнул рукой:
— Стой бабка. Схожу тебе за яблочком.
Деду было нечего делать, поэтому он вышел на улицу в поисках фруктовой палатки. Какого же было его удивление, когда под первым же крытым тентом он увидел знакомое лицо южного продавца. Оно оплыло уже как спелый баклажан, которыми он торговал, налилось дурной, застоявшейся кровью, и было перебинтовано ленточными червями бинтов. Рядом с ним стоял такой же здоровый хач, как подумал Дед, взятый для охраны. Впрочем, его не волновали подобные мелочи, и он спокойно начал набирать в авоську яблоки.
Здоровый хач оживился:
— Дедуля, а кто платить-то будет?
Избитый продавец, узнав Деда, прошептал:
— Ара, слушай, лучше отдай ему яблочки. И сделай всё, что попросит этот уважаемый человек.
Его спутник замахал руками:
— Пусть покупает! Почему я ему должен яблочки давать? Потому что он дед? Ваха, ты совсем потерял борцовскую хватку!
Избитый кавказец медленно проговорил:
— Ара, молю Аллахом, дай ему яблочек.
— Нет, пусть платит!
— Ара, заклинаю! Это вопрос жизни и смерти!
Когда здоровенный бугай попытался отобрать у Деда авоську, тот просто выдернул шнур у гранаты, оставшейся у него еще с войны, и та ласточкой залетела в палатку. Оттуда с воплями выбежали торговцы, и на лице качавшего права было отчетливо написано, что теперь он полностью разделяет суеверный страх перед русскими дедами. Когда Дед уже сворачивал в подворотню, на мостовую фруктовыми мозгами смачно вырвало торговый павильон.
Бабка ждала добытчика у крыльца, и когда Дед отдал ей яблочки, просияла:
— Вот спасибо! А то моей учительской пенсии хватает только на ранетки.
— Учительской? — как-то с замиранием спросил Дед, — вы работали учительницей?
— Да. Я же, мил человек, почти пятьдесят лет в школе проработала. Ещё до войны там начинала.
Сердце Деда возгорелось ещё пуще:
— До войны?
— Да, до неё родимой. А там всё перемешалось: отступление, эвакуация, вот я здесь и притулилась, оторванная ото всех. Никто обо мне и не знает. А я вот недавно упала, ногу сломала, и хожу кое-как. Недавно ко мне бандиты приходили, сказали, что и квартиру скоро отберут, потому что она не приватизирована. Чёрные риэлторы, грозились… Ой, да что это я…
Дед пристально смотрел на собеседницу, и сквозь морщины, прячущие ясные синие глаза в печёном яблочке лица, проглядывало что-то до боли знакомое. С каждым ударом сердца застоявшаяся кровь Деда приобретала температуру Солнца. Он никогда бы не смог забыть эти синие, горящие морем, ночью и космосом глаза. Воздух уже пронзили шпаги сирен, мчащиеся к дыму устроенного им пожарища, а Дед с придыханием спросил:
— А как вас зовут?
— Акулина. Так и зовут… ой, что делаешь, окаянный!
Дед со слезами на глазах сжал любимую в крепких старческих объятиях.
***
Век человеческого счастья недолог, а Дед и вовсе обрёл его на склоне лет, откуда почти скатился в овраг старости. Но Акулина, расцветшая в его мозолистых руках, как полевой цветок, подарила Деду любовь. И пусть она пришла поздно, кашляя, с зарубцевавшейся язвой, и приволакивая ногу, всё же это была любовь. Не потасканная сучка с обвисшим выменем, а настоящая огненная реальность, что заставляет говорить действительности — умри, но заставляет помнить о неминуемом воскресенье. Это был андреевский белый свет.
Акулина поведала и свою историю, пронзившую Деда так же, как когда-то сторублёвая прибавка к пенсии.
— Я после эвакуации в педучилище поступила. На учителя русского языка и литературы. А потом в школу. И не заметила, как пятьдесят лет пролетело. Будто в один миг. Ничего кроме парт, доски и меловой пыли и не видела. А потом пенсия. Ещё более нищенская, чем у других, потому что я учитель. Детей кроме чужих не воспитывала. Все меня покинули, кроме риэлторов. Только им и нужна.
На глаза Деда навернулись слёзы. Вся нехитрая жизнь Акулины, уместившаяся в нескольких словах, произвела на него впечатление большее, чем вся война и то, что он совершил совсем недавно. Для неё он вернулся с фронта через шестьдесят лет. Но вернулся! И то, что их жизнь, как будто кто-то вырвал, как будто обрёк на далёкое друг от друга одиночество, сделало мир настолько гадким, что Дед сжал кулаки. Обнимая Акулину, он произнес:
— Говорят, римский папа как вампир. Подожжём этот пархатый мир!
— Что?
— Вспомним, что и мы люди.
В дверь требовательно позвонили, и Акулина вздрогнула. Дед щелкнул замком и на порог властно шагнул худенький человечек юристской наружности в сопровождении нескольких амбалов. Они оценивающе посмотрели на Деда, а юрист удивленно спросил:
— А ты что за дед? Родственник?
Дед, ухмыляясь в бороду, закрыл за чёрными риэлторами дверь.
— Вас-то я и ждал, петушки.
***
Дьявол проткнул небо рогами, и май начал переворачивать свою шестёрку. Скрипя несмазанными кровью шестерёнками, завертелся однодневный исторический миф. На нём держалось единство страны, поэтому на его культ трудилась вся пропагандистская машина государства. На главной площади спешно сколачивались декорации памяти. Из сырых погребов, из помойных ям, из забытых таёжных посёлков, развалившихся бараков, траншей, окопов и воронок, оставшихся ещё с войны, в общем, из всех мест, что президентской милостью были дарованы народу-победителю для проживания, вылавливались и доставлялись в столицу ветераны. Там их отмывали, одевали, вставляли зубы, дарили продуктовые наборы и кухонные комбайны и объясняли, зачем они понадобились благодарной родине.
Именно на девятое мая Дед назначил дату национального восстания. Его план был донельзя прост и нов. В этот день вся страна должна была напиться до немцев в глазах, а к тому же никто бы не посмел поднять руку на дедов, ведь они воевали.
Для этой цели Дед начал собирать команду из однополчан. Он отправил телеграмму в одну далекую деревню, где не было телефонной связи, но по уверению чиновников в школе был интернет. И вскоре у дверей съемной квартиры стоял Никанор Иванович — крохотный бородатый сапёр с весёлыми глазами и смеющейся седой бородкой. В рюкзаке у него лежали две противопехотные мины и бутылка самогона. Первыми его словами были:
— Кого подрывать будем, товарищ?
Вскоре не заставил себя ждать и Серафим Григорьевич — снайпер, сохранивший припрятанную с войны мосинку и патроны. Правда, это единственное, что было в собственности у ветерана, потому что он до сих пор жил в землянке, которую ему торжественно отрыли комсомольцы-ударники по случаю тридцатилетия победы в 1975-ом году. Узнав суть дела, Серафим сказал:
— Подслеповат я для стрельбы стал, но говнюков по запаху учую!
План восстания обсуждали вечером за самоваром, который Дед раскочегарил сапогом, снятым с ноги. Дед ещё утром трофейным тесаком порубил риэлторов на куски, и подоспевшие ветераны вынесли трупы на свалку. В общем, они были привычны ко всему, кроме уюта. Поэтому, когда Акулина принесла испечённые блины с вареньем, все очень обрадовались лакомству. Дед степенно излагал свой план:
— Ты, Никанор, должен будешь заложить мины, чтобы рвануло так, как будто землю расколоть задумал. Ты же всегда был горазд нахимичить! В это время Сера должен будет подстрелить как можно больше всяких чиновничьих морд. Бей тех, что пожирнее. А когда начнется паника, я ударю из толпы.
Никанор, уплетая блины, кивнул:
— Всё будет в чистом виде. Есть тут у меня нововведенья. Прав ты товарищ, давно пора нам было начинать жить полной жизнью! Мы же деды, а значит созданы для войны!
Серафим разглядывал ружьё Деда:
— Хочешь, я тебе прицел приделаю? Будет, как у меня. Зарядишь пулей, а не картечью, станет гладко бить. Вещь!
Дед кивнул:
— Давай. Но на дело я с наганом пойду. Вроде всем всё понятно?
Серафим, всегда отличавшийся умом, откладывая в сторону оружие, сказал:
— Нам обязательно нужно название и манифест.
Подсевшая к заговорщикам Акулина спросила:
— Это зачем?
Серафим Григорьевич важно ответил:
— Чтобы оставить след в народной памяти.
И деды сели придумывать воззвание к народу, а бабка им помогала.
***
Мы объявляем восстание против современного мира. Мы — это Деды, а мир — это то, что должно быть уничтожено. Всё пришло в запустенье, а единственный способ расчистить заросшее поле под пашню — это поджечь его.
Наш флаг — это дым пожарища.
Наша партия — это никакой партии.
Наша справедливость — это ещё один труп.
Старость молчит, потому что прошло её время умереть. Молодость ничего не делает, потому что ей есть, что терять. Единственное на что способны и те, и другие — это обвинять и зубоскалить. Поэтому вся надежда остается на Дедов.
Дед — это не возраст и не родовое положение.
Дед — это метафизическая сущность любого русского человека.
Дед — это тот, кто воевал.
Те, кто сражался с врагом, автоматически становятся дедами, даже если недавно начали бриться. Это древняя русская традиция — от языческих ладей вещего Олега и мечей, обагренных торгашеской византийской кровью, до разрушенного тяжелой артиллерией Грозного. Герои Осовца. Только реализуя себя через ратное мастерство, русский человек может воплотить в жизни те присущие ему архетипы, которые сознательно угнетаются в нём системой. За отсутствием военных конфликтов эта энергия выплёскивается в народные бунты, самосуды и сожжения вражин. Наша стихия — это казацкий бунт, крестьянская вольница и вздёрнутые на суку подлецы. Каждый русский человек неосознанно стремиться стать Дедом — убить врага, ограбить барыгу и разбойничать на благо угнетенных.
Мы каждую секунду бросаем вызов действительности.
Мы готовы жертвовать, а потому бессмертны.
Мы знаем, что наши руки по локоть в крови, но хотим, чтобы они были в крови по плечо.
Подпись под нашим манифестом будет поставлена делом. Каждый, кто ощущал, что внутри него живёт Дед, может и должен присоединиться к нам, потому, что прошло время молодых, убивших себя бездельем и алкоголем. Над нами поднимается чёрное солнце, возвещающее начало эпохи Дедов.
Слава Дедам! Победа будет за нами!
***
В ту ночь, когда зажглись хрустальные залупы небоскрёбов, Деды бродили по улицам города. Он не нравился им, был чужим и поскуливал автомобильными сигнализациями. Деды, крепя позабытое фронтовое братство, совершили немало дел. Они выпотрошили пару наркоторговцев, разогнали толпу гопников, чьи рябые лица напомнили им ужасы войны, что-то сожгли и где-то выпили. Всё было как в старые добрые времена, но чего-то не хватало. Дед первым решил сказать:
— Товарищи, по поводу нашего манифеста.
— А?
— Ну, его куда подальше!
Однополчане не поняли:
— Почему?
Дед нахмурился:
— А зачем он? То, что надо сделать, мы знаем. Те, кто последует за нами, наберутся решимости и без нашего умствования. Такое ощущение, что мы хотим заработать личную славу. А мы же ведь просто… за справедливость. Не за себя, а за других. За то, частью чего мы являемся. За нами стоят не слова, не мысли, не вещи, а народ. Эта огромная сила, способная перемолоть что угодно. И любой манифест по сравнению с этим кажется таким же жалким, как вчерашняя газета в общественном туалете. Надо, чтобы манифест был в тебе! А вся эта пачкотня бумаги она от слабости, от того, что ты не можешь решиться на что-то большее. Понимаете?
Серафим Григорьевич поник:
— Получается, я зря его писал? Как же так получается?
— У нас и имён-то быть не должно, — сказал Дед. — Для того, чтобы нас запомнили. Люди ждут героев, не понимая, что героями должны стать они сами. И когда произойдет такое превращение, то отпадёт сама необходимость верить в то, что за тебя положенное сделает кто-то другой. Поэтому не надо никаких манифестов. Мы же, когда поднимались в атаку, не зачитывали приказы командования. Мы должны показать, что поступить так, как мы, может каждый. Без пафоса. Без героизма. Без лишних слов и видеобращений. Иногда приходит время умирать без лишнего шума. Погибнуть… уйти так, чтобы о тебе никто никогда и не вспомнил, но совершить при этом нечто сверхчеловеческое — это и есть настоящий поступок. Не для увековечивания себя, а для того, чтобы изменить саму действительность. Как вам объяснить… Подвиг должен стать работой для тысяч людей, а упование на героев уйти в прошлое. Только тогда что-то изменится. Понимаете?
Никанор Иванович кивнул:
— Мы просто сделаем дело. Как в войну. Не спрашивая и не говоря. Не думая и не целясь в известность. Так, товарищи?
Деды кивнули. Тогда Никанор Иванович залихватски подкрутил усы и вспомнил, что когда-то он обошёл всех походных жён имевшихся в полке. На остановке как раз стояли две красивые девушки, и товарищи Деда двинулись к ним. Сам же виновник будущих событий с нежностью подумал о ждущей его дома Акулине.
***
План должен был исполниться в перевернутую шестёрку мая, и когда с улицы повеяло чем-то кислым, они поняли, что время пришло. Как только приоткрыли форточку, комнату пронзил резкий запах спирта, и у Деда не осталось никаких сомнений:
— Девятомай начался.
На улице действительно пахло спиртом, и лужи оранжевой блевотины празднично испарялись в небо. Народ-победитель отмечал своё поражение. Дворовые лавочки прогнулись под изменчивый мир. По телевизору врали в десять раз больше, чем обычно. По улицам носились опутанные георгиевскими ленточками черно-коричневые малолетки. Больше всех веселились те, кто считал, что в этот день закончилась Вторая Мировая. В окна залетала песня:
— Мы победили, мы победили… мы всех от смерти освободили!
Акулина осталась дома, а мужчины вышли в город. Бабка со слезами на глазах провожала суженного:
— Не уходи, Дед.
— Надо идти, Акулиночка. Кто ж, если не деды, спасёт Родину?
— Ты как будто снова уходишь на войну. Чую, не вернёшься.
Дед ласково улыбнулся в бороду:
— Ты только верь, Акулина. И я вернусь. Верь и я снова приду к тебе.
Акулина молча кивнула и утерла выступившие слёзы платочком. Она знала каким-то потаённым женским чутьём, что больше никогда в своей жизни не увидит Деда. Всё, что у неё осталось, это слабо трепещущая крылами надежда, что Деды живыми вернуться обратно.
Тем временем Деды шли по улице. Начищенные до блеска сапоги. Выглаженная военная форма. Никто из них не бряцал бородой из медалей, так как ветераны скромно надели наградные планки. Правда, они напоминали обывателю никак не послужной список наград, а запоротую партию в тетрис. Только на груди Деда болталось пара боевых медалей. Он принципиально не одевал юбилейных побрякушек. В рамке металлоискателя, цедящего народ к огромной сцене, возникло затруднение. Никанор Иванович и Серафим Григорьевич без труда прошли через охрану, но вот Деда задержали вертухаи.
— Выложите всё металлическое!
Дед сурово посмотрел на них:
— Вы что, хотите, чтобы я снял медали? Охренели? Ради этого я за вас воевал?
Полицаи засмущались и Дед, жмурясь от истеричного писка металлоискателя, прошел к месту праздника. Полицаи не знали, что это звенели вовсе не медали, а наган, который Дед пронёс под пиджаком. Они стали пробираться к сцене. Никанор Иванович и Серафим Григорьевич лучезарно улыбались, громоздя на лице смеющиеся морщины, тогда как Дед был напряжен и сух. Заметив это, к нему подскочил прыщавый паренёк из тех, кого легко сделать холопом.
— Повяжите ленточку. Что же вы без ленточки! Георгиевская!
Дед сурово скосил на пиявку голубые глаза. Какая-то патриотическая гнусь, у которой нос рос на лбу, а зубы где-то сбоку, пыталась всучить старикам-разбойникам победные ленточки. Это было примерно так же нелепо, как чемпиону по игре в «Conter-Strike» учить стрелять спецназовца. Дед ответил:
— Спасибо, не надо.
— Как, это же символ Победы!
Дед нахмурился:
— Кто командовал одним из главных фронтов войны, а именно первым белорусским фронтом, когда тот воевал в Белоруссии?
Гнусь испугалась и попыталась спрятаться в себя, как черепаха. Дед легонько стукнул его по панцирю и спросил:
— Ну, кто командовал фронтом, где я воевал?
Патриот оглянулся по сторонам и решил рискнуть:
— Э-э… Жуков?
— Рокоссовский!
После чего малолетний олух был бит и отпущен с миром. Впрочем, Дед отобрал у него ленточку, потому что считал боевую добычу священной, чем бы она ни являлась. Как-то раз он вынес из разграбленного немецкого домишки с поганенькой, красной черепичной крышей зеркало лишь для того, чтобы его разбить. И всё-таки ощущения торжества не было. Вокруг бурлило то, что обычно обитает на дне унитаза. Жарко палило солнце. Пот стекал с обвисших тел, раскормленных, как бройлеры. Не было ощущения праздника, зато присутствовало ощущение муравейника, где каждая тварь возомнила себя броуновской молекулой. Деды, сжимая подаренные им красные гвоздики, ощущали себя чужими в этом макабре. Их встретившиеся взгляды высекли искру и ветераны поняли, что пришло время прощаться. Не было слёзных расставаний, как с Акулиной. Сцеплённые руки продлили их дружбу ещё на несколько секунд.
А затем Серафим Григорьевич захохотав, удалился в сторону. Там, надежно припрятанная его ждала снайперская винтовка, а замок на чердак был загодя перекушен ножницами по металлу. Скорей всего Серафим послужит обычной приманкой для других снайперов. Он знал это и смеялся, стараясь испугать опасность. На войне он выигрывал куда как более опасные дуэли. Дед посмотрел ему вслед, и тут в ладонь ткнулась тяжёлая рука маленького Никанора Ивановича. Он тихо произнёс:
— Бывай, товарищ.
Сапёр пошел к своим зарядам. Дед остался один, и чтобы не потеряться в пьяном карнавале, нащупал в кармане наган. Осталось ждать, когда на сколоченную сцену привезут прошло-будущего президента. Тогда, вместе с фотокамерами, защёлкает винтовка Серафима и взорвутся мины Никанора, и в панике, когда среди гор обожжённых полицейских тел возникнет куча-мала, Дед должен будет познакомить президента с настоящей ветеранской благодарностью.
Но тут вблизи раздалась сладкая картавенькая речь, словно говорящий жевал мармеладку, отчего Дед в страхе вздрогнул.
***
Дед сразу же узнал Соломона Яковлевича. Весь его вид говорил о том, что он воевал в заградотряде. Ну, или откармливался в тылу. Оттопыренные ушки и опустившиеся, как шлюхи, губы. Трупные мешки под глазами, на которых выросли вспученные веки с выглядывающим из-под них воровским зрачком. Несколько сотен медалей и орденов на груди, тянущих его к земле вместе с огромным загнутым носом. Сразу видно — липовый ветеран, но его восторженно слушала большая группа молодежи:
— Воевали мы хорошо. Это всё врут, что у нас ничего не было. Лично я с комфортом дошел до Берлина…
Дед знал, что Соломон Яковлевич и впрямь дошел до Берлина. Вернее доехал — передвигался за линией фронта вдоль свежих солдатских кладбищ, и месил грязь фронтовых дорог лишь тогда, когда хотел в туалет. Для особиста был выделен специальный вагон.
— У меня и жена войну прошла. Связистка. Нет её уже в живых…
Дед помнил, что это не мешало ему крутить романы со всеми девками, которые встречались ему на пути. Одних он подкупал, другим угрожал, но Дед был уверен, что никто, в том числе и его жена, никогда не испытывали к Соломону Яковлевичу ничего, кроме отвращения. Таким он уж был человеком. Мерзким буржуа войны, который радовался большим потерям в наступлении, потому что на кухне останется больше неизрасходованного спирта.
— Питание было налажено отлично. Всегда поставлялось то, что нужно. Были, конечно, перебои, но ведь это война!
Много солдат не получили паёк из-за того, что на кухне хозяйничали эмиссары подлого штабиста. Когда в какой-нибудь очередном селе расквартировывался штаб, крестьяне первым делом несли в подарок Соломону-освободителю уцелевший скот. То барашка, то курочку. Лишь для того, чтобы тот обласкал их своей милостью и отвёл возможные кары. А принимать еду солдатам от населения он строго-настрого запрещал. Для предотвращения мародерства, как он говорил.
— Вообще не так страшна война, как её малюют.
С особистом мечтали покончить многие, но Соломон, везде имея своих агентов, избавлялся от врагов раньше, чем они могли убить его. Дед понял, что ему предоставляется уникальная возможность отомстить за всех убитых товарищей, и сразу же грандиозный план, который они придумали, показался ему настолько мелким и вторичным, что он взвёл курок револьвера и сделал шаг вперёд.
— Все мы, воевавшие, осознавали, что можем не вернуться домой…
Дед прошипел:
— Да ты же, гад, никогда на передовой не был.
Соломон Яковлевич как змея подскочил на звук:
— Что вы говорите? Что…
Его глаза вылезли из орбит, когда он увидел Деда. У него была цепкая крысиная память, что помогло ему устроиться на тёплое местечко и после окончания войны. Не повстречайся с Дедом, бывший особист, запытавший немало безвинных душ, жил бы ещё долго и счастливо, но сейчас он понял, что в глаза ему глядит справедливое возмездие. Какого же было удивление Соломона, когда Дед сухо сказал:
— Живи, червь.
И повернулся спиной к нему. Потому что задуманное дело было важнее личной мести.
***
Совершенно неожиданно раздался выстрел. Настолько банально, что даже не хотелось в это верить.
Люди взвизгнули и отпрянули, оставив Деда рядом с танцующим твист телом. Соломон дёргался на брусчатке, не в такт гремя многочисленными наградами. Они звучали громко и пусто, как несколько монеток в большой копилке. Дед молниеносно, ещё до топота подкованного полицайского табуна, понял, что предателя из винтовки убил Серафим. Он тоже когда-то сильно настрадался от деятельности вредителя.
— Убили! Убили старика!
Заголосила какая-то женщина, и полицейские уже начали строиться в цепи, чтобы не допустить паники. Не говоря ни слова, Дед бросился на землю и закрыл голову руками. Кепка соскользнула с его головы и упала рядом. Борода забилась в рот. В суматохе никто не обратил внимания на идиотское поведение старика, но Дед знал, что всё этим не закончиться.
Только отпочковавшиеся от бледно-голубых машин полицаи неожиданно вознеслись в воздух. Они сошли бы за ангелов, если бы не вывалившиеся из распоротых брюшин кишки и дикие, вороньи крики на фоне взметнувшегося взрыва. Никанор был тот ещё умелец и нахимичил с зарядами так, что канализационный люк, под который был заложен фугас, взвился в воздух и как диск греческого атлета, смял в лепешку полицейский автомобиль.
Завыли сирены и трупы, одетые в серую форму, как-то весело заползали по закоптившемуся асфальту. Дед, оправившийся от взрыва раньше, чем почти не пострадавшие мирные граждане, понял, что президент сегодня вряд ли приедет. Наган ему не пригодится. Снова раздался истошный женский крик:
— На крыше! На крыше! Я видела старика на крыше! Это он стрелял!
Могучий служитель порядка, которому очень бы подошла бутылка из-под шампанского, схватил за грудки первого попавшегося ветерана и проорал в мегафон:
— Хватайте всех дедов! В автозаки их! Там разберёмся!
Дед подумал, что насчёт револьвера он сегодня ошибался.
***
На экране телевизора всплыло носатое лицо с застывшими на подбородке слюнями. Лицо охранителя задвигалось и слюни разгладились. Дед смотрел экстренную историческую программу товарища Гусиняна.
— Здравствуйте. Недавно, в священный для всех россиян день, неустановленная группа западных наймитов попыталась устроить очередную оранжевую революцию. Анализ происшествия установил, что заговорщики были очень пожилыми людьми. Более того, они были ветеранами Великой Отечественной войны. В этих событиях совершенно явственно и мудро выглядит политика Сталина, который отправлял часть возвратившихся с фронта и плена солдат в лагеря. Остаётся только сожалеть, что на этот раз вопли либералов, что все фронтовики отсидели в лагерях, не оказались реальностью. Иначе мы бы не были шокированы произошедшим сегодня терактом, в котором отчётливо прослеживается след англосаксов. Чтобы сохранить стабильность следует вспомнить мудрость нашего Вождя, ещё тогда понявшего, что все ветераны — это враги стабильности. Более того, все ветераны — это фашисты, потому что они ближе всего столкнулись с его гнусным лицом. Думайте-то товарищи о том, кто хочет ветерановой революции. Думайте о предавших нас ветеранах!
Вытерев слюни, напомнившие сперму порноактеров, Гусинян выкатил честные кавказские глаза и продолжил:
— Для обеспечения порядка в столице введен режим Чрезвычайной Стабильности. Охрану порядка, согласно плану президента, будет производить незаинтересованная сторона, а именно расквартированный в белокаменной батальон кавказского спецназа. Ему поручена охрана фильтрационных лагерей. Если вы ещё не слышали, то это современные комфортабельные учреждения для проверки всех подозрительных ветеранов. Моё сердце радуется из-за того, что по улицам нашей великой страны снова разъезжает чёрный воронок, куда помещаются враги стабильности. Теперь это грузовики на которых в лагеря доставляет стариков. Не бойтесь, мирным гражданам ничего не угрожает. Бойтесь стариков, которые хотят совершить ветерановую революцию!
Дед выключил телевизор. Ещё вчера был объявлен президентский указ о том, что все участники войны признаются неблагожелательными элементами, и должны будут интернироваться в фильтрационные лагеря. Теперь старикам нельзя было появляться на улице, так как их хватали и отвозили в спецприёмники. По адресам, где проживали фронтовики, работали группы захвата. Ветеранов объявили врагами стабильности, и Дед точно знал, что его боевые товарищи оказались в лагерях. Ему, вышибив мозги парочке полицаев, удалось улизнуть, но как сложилась судьба Серафима и Никанора он не знал. Зато Дед был уверен, что к Акулине уже наведался спецназ и отвёз её в фильтрационный лагерь. Дед звонил ей со своей съемной квартиры, но лишь траурные гудки были ему ответом.
— Смерть дедам! Смерть!
Подойдя к окну, Дед осторожно выглянул на улицу. По её спине маршировали нашисты, которые несли плакаты, на которых слово «слава» было спешно заменено на слово «смерть», и рядом был изображен перечеркнутый портрет ветерана.
Надо было действовать.
***
Спокойное лицо Деда отражалось в мутном зеркале. Он медленно и торжественно надел парадный китель. Красная олимпийка больше была ему без надобности. Сухо звякнула виноградная гроздь наград. Фуражка накрыла голову. Он торжественно отдал честь парадному отражению. Дед оглядел себя, и, оставшись довольным произведенным эффектом, вышел на улицу. В вещмешке у него была сложенная двустволка с оптическим прицелом.
Бесформенные мамаши, только завидев Деда, хватали за руку выгуливаемых детей и убегали прочь. Мужики хмурились, и чаще обычного плевались после горьких сигарет. Дед шёл по разлитому маю, и хлопали окна домов, со всех сторон раздавалось ворчание и недовольство. Дед был врагом стабильности и все знали об этом. Только расцветающая природа, которой был чужд страх, осеняло Деда своей милостью. Ветеран тягуче запел:
— Вставай страна огромная…
На улице на него смотрели, как на смертника. И даже толпа нашистов, эта сборная солянка со всей страны, где нашлось место и тунгусу и урусу, не посмела напасть на Деда, хотя в их юношеских лапках находились освященные в Храме Христа Спасителя православные биты. Ветеран, держа выдержку, гордо шёл по улице. Возможно, он хотел красиво погибнуть. Возможно, блеснуть напоследок яркой вспышкой. Той самой, что бывает от зажженной в вечном мраке спички. А может, ему просто нечего было одеть. Тем не менее, Дед шёл, как в последнюю штыковую атаку и пел… пел заворожено, отдаваясь только силе своего голоса и шестым чувством понимая, что люди, потупив глаза, бояться посмотреть на него.
— Вставай на смертный бой!
Резко вскрикнули убитые шины, и прямо перед стариком остановился чёрный грузовик, откуда выпрыгнул такой же чёрный и здоровенный джигит.
— Вэтэран? — спросил он Деда, — ты вэтэран?
Дед гордо ответил:
— Да.
Он тут же получил дубинкой под дых, был заломлен и закинут в крытый кузов, где тоже сидела ещё одна обезьяна-охранник. Тот, сопровождая Деда пинками к остальной стонущей стариковской массе, сказал:
— Тут уже много русаков. Вези на базу!
Дед с трудом уселся в грохочущем кузове и пробормотал:
— Уф, давно меня так не били.
Старики заголосили:
— Куда они нас везут?
Дед, пытаясь восстановить дыхание, ответил:
— В концлагерь. Теперь создаются концлагеря для ветеранов, потому что мы опасны для общества….
— Эй, собаки, — крикнул охранник, сидевший у приоткрытого кунга. — Хорош болтать.
Дед увидел, что в его руках был автомат, и замолк. Всё шло точно по плану. Когда грузовик выехал из города и понёсся по трассе, которая была перекрыта от движения блокпостами. Дождавшись, когда они достаточно углубятся подальше от них, Дед спокойно вытащил из-за пояса наган и выстрелил в лоб спецназовца. Его никто не досматривал, потому что ещё с первой партией стариков потомственные работорговцы поняли, что брать с ветеранов решительно нечего. И теперь кавказец рыбкой вывалился за борт. Вскоре водитель дал по тормозам, увидев в зеркале заднего вида валяющееся на дороге тело. Когда он в ужасе подбежал к кузову, то был встречен вторым выстрелом.
Таким нехитрым образом Дед завладел картой, на которой было указано расположение концлагеря, и отпустил на волю повеселевших стариков. Он сказал им напоследок:
— Схоронитесь в леса.
У одного из дряхлых людей тут же вспыхнул огонёк в глазах:
— Так, если мы будем в лесах жить, то можно же будет поезда под откос пускать, как в старые добрые времена? И набеги устраивать:
Дед посмотрел на садящееся солнце и произнес:
— Да, мы пустим под откос этот мир.
Дал по газам и был таков.
***
Раньше под жирным брюхом столицы располагался секретный военный завод по производству химического оружия. Теперь на нём разводили мелкий рогатый скот. Рассматривая из-за баранки угрюмые стены за которыми Дед работал всё послевоенное время, старик взгрустнул. Горцы, стараниями стариков, были прикопаны в ближайшем леске, где и растворились бывшие партизаны. Об этом не стоило беспокоиться.
— Ну, где же вы…
Ворота заводского комплекса распахнулись, и из них вытекло море баранов. Настоящих, а не похожих на людей. Все откормленные и ухоженные. Но бараны было не то, что нужно Деду. Увидев, что отдельной отарой движутся овцы, Дед вышел из машины и подошел к пастуху:
— Как жизнь?
— Трезвость это болезнь. Вот я и болею.
— А ты философ, — заметил старик. — Тут дело у меня к тебе есть.
— Ну?
— Давай обмен. Ты мне пять овец, а я тебе пять штук.
Пастух с презрением ответил:
— Ты хоть знаешь, дед, сколько одна овца стоит? Это же тонкорунная шотландская порода. В общем, пять бутылок водки! И закуска!
Дед предвидел такой финал и с радостью ответил:
— Замётано.
Вскоре Дед трясся по дороге, а в кузове грузовика блеяло пять прекрасных овец. С каждым километром по вискам трассы всё сильнее хмурили брови густые сосновые леса. Доверившись карте, Дед скоро наткнулся на последний блокпост. Там, только заметив чёрный грузовик, тут же подняли шлагбаум и пропустили Деда. Вскоре он осторожно выехал на кромку леса, за которым начиналось незасеянное поле. Он вылез из машины, раздвинул ветки, и ему открылся вид на концентрационный лагерь для Дедов.
Шахматными ладьями возвышались пулеметные вышки, и паутина колючей проволоки опутывала периметр лагеря. Виднелся наспех сколоченный барак для охраны, а схваченные ветераны ютились прямо под открытым небом, передвигаясь, как полутрупы. Деду тут же захотелось броситься на штурм этого поганого местечка, но он знал, что его срежет первая же пулеметная очередь с вышки, поэтому он вернулся к грузовику. Вскоре овцы, выпущенные на свободу, беззаботно блея, начали подбираться к воротам концентрационного лагеря для Дедов.
***
Жизнь Убляда Помоева шла к успеху. На далёком Кавказе у его семьи было крепкое хозяйство — целых четыре русских раба. Отец Убляда хорошо повоевал в первую кампанию за свободу Ичкерии, и потому сегодня был награжден правительственными наградами, получал большую пенсию и был назначен главой целого района. Сам же Убляд давно был расквартирован в столице в качестве полномочного представителя своей малой родины. После того, как ветеранов объявили нежелательными элементами, батальону была поручена функция охраны стариков, и теперь кавказец с презрением смотрел на кучу копошащихся прямо под открытым небом ветеранов. Он не считал их воинами и иногда давал поверх голов очередь из пулемета. Старики инстинктивно падали на землю и с ужасом глядели на Убляда. Ему нравилась его работа. Если всё так пойдет и дальше, то скоро ему будет положена звезда героя.
Но тут Убляд услышал звуки Родины. Сначала он подумал, что ослышался, но настойчивое овечье блеяние повторилось. О, загадочная душа горного народа! Как страстно ты можешь пылать в этой по-настоящему животной страсти!
Что такое Шнитке, Бетховен и Шуберт для вольного сердца кавказца по сравнению с трогательным и достойным трагедии Шекспира блеянием овцы? Что в чужих далях, кроме вольной борьбы и обезьян, может напомнить дикому горцу о крае своих предков? Только нежный, слегка заигрывающий, волнующий и трепещущий голос матушки-природы. Нет, определённо не найдёшь на свете звуков слаще для горного уха, чем эротическое блеяние заблудившейся овцы. Не веря своим ушам, Убляд уставился в бинокль и тут же увидел, как в последнем дыхании дня на поле щиплют травку пять овец.
— Мамой клянусь, это же моя любимая порода! Шотландские тонкорунные!
Убляд, схватив пулемёт, стал спускаться с вышки. Он знал, что конкуренция за женское внимание поднимется страшная, потому что начальник разрешал устраивать всего один набег в неделю на ближайшее селение, а солдаты горели желанием. А тут Аллах ниспослал нежных, похожих на облачка, на обезжиренный йогурт из рекламы, на сладкую сахарную вату, на мечту любого вайнаха и талисман Дикой Дивизии, прекрасных, как Муххамед, овечек. Когда Убляд подбежал к отаре, вокруг неё уже сгрудилась вся охрана лагеря — почти двадцать человек. Он проклял небеса, что был в дозоре на высокой вышке. Начинался яростный спор.
— Это моя овца, я первый её увидел!
— А я первый её осеменил!
— Она блеяла, я ей понравился!
— Это не аргумент! Она всем зад подставляла, шлюха!
Спор перерос в крик, а тот прикинулся дракой. Она тут же превратилась в перестрелку, и Убляд рухнул на землю, приводя в боевую готовность пулемет. Любовная ярость застила его взор, и он начал стрелять, положив к чертям остатки охраны. Ни одной овцы в перестрелке не пострадало, так как спецназовцы самоотверженно прикрывали их своими телами, но животные оказались напуганы и разбежались по полю. Убляд, бросив пулемет, кинулся за ними. Когда он прижал к земле жалобно блеющуюся овцу, то для упокоения совести пообещал себе на ней жениться. Но соитию любящих сердец помешала массивная фигура, возникшая подле кавказца.
Дед хмуро проговорил, наставляя на бандита ружьё с оптическим прицелом:
— Так вот кто у нас в полку всех коз на хоздворе перепортил!
***
Дед вошёл в опустевшую казарму. От стойкого звериного запаха потемнело цевье на автоматах в оружейке. И вместе с тем к аромату примешивался какой-то гадкий, трусливый запашок, сотканный из женского страха и мужского семени. Живой и освобождённый Дедом Никанор Иванович, отступая назад, тихо сказал:
— Они увели её сюда.
Акулина голая лежала на столе. Дед молча прикрыл её одеялом, стараясь не смотреть на запекшиеся рубцы и отбитую, синюшною плоть. Её насиловали всем гуртом. Она умерла от кровопотери, не выдержав надругательств. Старик взял её тоненькую ручку, так не вовремя обручившуюся со смертью. В его синих глазах вспыхнуло пламя тотальной войны.
— Теперь мне уже точно нечего терять.
Пожар потрясал огненной гривой и бил копытами искр в сгустившуюся ночь. Дед сжёг барак охраны, предварительно вынеся из него оружие. Пожар развевался за ним, как крылья бога войны. И теперь Дед, вспомнив старинный казачий обычай, возвышался на бочке и обозревал круг из ветеранов.
— Братья и сестры!
За спиной стояли Никанор и Серафим. Огненные языческие кони уносили Акулину в хохочущую ночь. Это была достойная тризна. Наконец-то в её серой жизни произошло хоть что-то, о чём можно было бы написать. И Дед верил, что ещё через много лет, когда не останется в живых свидетелей этих грозных событий о жизни Акулины, будут рассказывать впечатленным детям в школе. А сейчас Дед чувствовал себя древним жрецом, поднимающим род на битву. Он воззвал к народу:
— Товарищи! Вас, стариков, проливших кровь за Отечество, неблагодарное государство упекло в концлагерь лишь за то, что вы принадлежите к избранной касте Дедов. Как вы можете покорно ожидать своей участи, подобно баранам на бойне, если за вашими плечами горят четыре огненных года? Вы никому не нужны в обществе потребления, потому что здесь всё можно купить, кроме человеческого достоинства! Мы просто обязаны вспомнить, кем мы все являемся. Мы должны доказать, что не хотим быть бессловесным скотом. Мы должны взять в руки оружие и наказать наших угнетателей. Я заявляю, что Россия для Дедов. Где Дед, там и Россия!
Толпа начала перешёптываться. Дед оглядел боевых товарищей, и с сожалением заметил, что среди них очень мало ходячих бойцов. В основном инвалиды, поросшие плесенью и разложившиеся на липовый мёд старики, на лысых макушках которых росли грибы. Много колясочников, слепых, безногих, диабетиков, выживших из ума. «Главное, — подумал Дед, — среди них точно нет трусов». Но тут вперёд выступил какой-то сморчок, весь вид которого говорил, что он воевал где-то в тылах.
— А я не согласен. У меня пенсия была двенадцать тысяч, мне было хорошо жить. А то, что меня сюда упекли, так это недоразумение, и ни в каком бунте я участвовать не собираюсь.
Второй голос хрипло каркнул:
— Я сидел в немецком концлагере. Я сидел в сталинском концлагере. И я авторитетно заявляю, что в российском концлагере не так уж и плохо!
И как лавина понеслись возгласы:
— До этого меня вообще не кормили, а тут была баланда!
— Сталин терпел и нам велел!
— Хватит, отвоевали своё!
Ещё несколько минут и план Деда бы рассыпался, как карточный домик, но умный Серафим Иванович мягко отстранил товарища с бочки и проронил:
— Дружище, кто же так разговаривает с бывшими солдатами.
Дед буркнул:
— Попробуй сам.
Снайпер призвал людей к спокойствию, а затем прокричал сиплыми стариковскими лёгкими:
— Солдаты, я обещаю вам много бухла, еды и женщин! А ещё мы сожжем собес!
Толпа громогласно ответила:
— Вождь, веди нас хоть на край света!
***
Они вошли в город утром одиннадцатого числа. Застенчиво рдел рассвет, и хриплое дыхание ветеранов, дымком тающее в воздухе, предвещало скорую развязку. Взяв с собой всего одну машину, отряд построился в колонну и с первыми лучами выдвинулся на проспект, ведущий к центру. Когда первая коробка Дедов вышла на улицу, ломая уличное движение, машины протестующе загудели. Но защёлкали затворы, и все посторонние звуки умолкли. Мир с удивлением наблюдал за странным воинством, движущимся в сердце столицы.
— Ровнее шаг! Правое плечо вперед!
Иссечённые пулями, вынашивая в теле памятные метки минувшей бойни, но такие же несгибаемые воины, как и в пору своей юности, они шли вперёд. Прямые спины, холодные глаза, обезвоженные мысли. Они ровно чеканили шаг, и каждый раз, когда их ноги смыкались в едином звуке, планета слегка накренялась и вращалась в угодную им сторону.
Старая гвардия войны.
За отборным отрядом автоматчиком ковыряли костылями землю одноногие. Искусственные ноги звучат страшно, как будто смерть стучит в деревянную дверь. Барабанные палочки гремят об асфальт и дома, закрыв окна руками, в страхе приседают на корточки.
Музыкальное послесловие войны.
Затем ехали колясочники с автоматами на коленях. На неровных выбоинах инвалидные коляски дребезжат, будто по асфальту катят больничные койки. Шарниры почти выпадают из механических суставов и каталки страшно, как одинаковая старость, клацают железными челюстями. Инвалиды молчат, смотрят вперёд и прижимают к груди автоматы. Колясочников везут слепые, вылинявшие как лунь старики, вцепившиеся в ручки кресел и подчиняющиеся командам неходячих.
Безногая кавалерия войны.
На чёрных, как ночь, грузовиках, едут те, кто уже не может ходить. Они опираются на бортик и смотрят бесцветными, почти белыми глазами на застывшие лица прохожих. Как антенны торчат дула оружия. Здесь самые безнадежные, которые не могут идти, не могут ковылять, не могут даже ползти. Но в их глазах сталь самой высшей пробы, какую только можно выковывать из человека.
То, что недоела война.
Замыкали колонну по всем правилам военной науки арьергард из самых здоровых бойцов. Машины почти перестали попадаться и колонны ветеранов заняли всю ширину улицы. В небе вороном кружили вертолеты. Где-то на смежных улицах безумно завывали сирены, и слышался топот множества ног. Он отражался от стен, и ветераном казалось, что они находятся внутри огромной, чужой армии, которая медленно смыкает вокруг них кольцо. Наконец, впереди показались бронемашины внутренних войск. Майское солнце мирно улыбалось на дулах автоматов.
Ветераны остановились, и вперед вышел никогда не унывающий Никанор Иванович:
— Сынки, дайте пройти. Нам на Кремль. Мы же за вас воевали.
И пал, прошитый пулями.
***
Инстинкты не подвели, и ветераны быстро залегли за складками местности. Пули весело били о камень домов, скакали по бетонке, со шмелиным жужжанием впивались в дряблую плоть. Деды открыли ответный огонь, и перестрелка завязалась в гордиев узел. Ухнули гранаты со слезоточивым газом, но на этот случай у ветеранов оказались противогазы, взятые в лагере.
— Расступись!!!
Кто-то в грязно-синей матроске за рулём грузовика дал по газам, и машина с пробитым фонарем, врезалась в бок дрогнувшего вражеского бронетранспортера. Вояки посыпались с него, как блохи с собаки. Раздался протяжный на пределе человеческого крик, после чего что-то оглушительно лопнуло, будто сдавили огромный желудок, брызнуло кишками, кровью и желчью, и всё продолжилось с новой силой.
С крыш заработали снайперы. Каждая пуля находила изможденное стариковское сердце, и деды падали, как срезанные колоски, всё ещё глупо сжимая в руках оружие. Это было похоже на избиение. Серафим Григорьевич лежал за изрешечённым пулями автомобилем, и с болью смотрел, как с каждой секундой уменьшается победоносное воинство. Рядом с ним тяжело дыша, лежал Дед. Он иногда прицеливался из ружья с оптическим прицелом и щедро посылал дробь в баррикады врага. На прицеле была привязанная отжатая георгиевская ленточка, трепетавшая от каждого выстрела. Серафим спросил:
— Что делать-то будем?
Дед сухо сказал:
— Пуля дура, а штык молодец.
Серафим Григорьевич кивнул и, встав во весь рост, закричал:
— Вперёд! За Дедов! В штыковую!
Из каждой щели, выбоины, кочки, бугорка возникли чёрные фигуры. Те, кто казался уже мёртвым, поднялись в полный рост. Смертельно раненые привстали, чтобы отдать жизнь в бою. И громогласное «Ура», исходящее из самого нутра человека, где ничего животного, а только жертвенная священная ярость, слившись в таранный крик, сильнее пуль ударило по врагам. Рахитичные вояки опустили автоматы и с ужасом взирали на атаку мертвецов.
— Ур-р-а-а-а!
У всех дедов было преимущество перед военными. Каждый из них прошёл в своей жизни через безумие штыкового боя. Говорят, после него никогда не остаёшься прежним. И вояки, беспомощно оглянувшись на брюхастых офицеров, испуганные и подавленные этой атакой тех, кому давно было уже суждено умереть, открыли огонь. Деды бежали вперёд прямо на свою смерть. В этом было какое-то хтоническое безумие, древний воинский ритуал, и те, кто не дрогнул и прошёл его до конца, навеки причислялись к касте небожителей.
— Ур-а-а…
Рычащий клич с каждым пройденным метром захлёбывался, истончался, как перекрытый камнем ручеёк, пока не иссяк с последним повалившимся на асфальт Дедом. Пока ещё стонали смертельно раненые, которых одиночными выстрелами добивали снайперы, но вскоре всё было кончено. Из-за брони машин стали выглядывать напуганные солдаты, с ужасом взиравшие на поле смерти перед ними.
На искалеченном асфальте в родовых судорогах скорчилась куча трупов. Небо рявкнуло, и полоснуло по городу очищающим ливнем. В дождевых стоках забурлила красная парная кровь. Кровь героев, смешавшись с пылью, окурками и оторванными планками наград, уходила в канализацию. В живых не осталось никого.
***
В студии главного государственного канала созрел выпуск новостей. Облитая косметикой дикторша готовилась выйти в эфир. После грандиозной заставки из апокалиптичных картинки и музыки, дикторша отточено поздоровалась и продекламировала:
— По всей стране наконец отгремели торжества, посвященные Дню Победы. В каждом городе, в каждом населённом пункте, праздник собрал множество восторженных участников. Но в тоже время памятная дата была отмечена мирно и без эксцессов, что ещё раз говорит о том, какую сплачивающую роль победа в войне играет для нашего народа. С подведением итогов, наш специальный корреспондент…
Команда дала ролик и диктор расслабилась. Ей поправили причёску, и она скучающе ждала приказа продолжить эфир. Ненадолго паркетной женщине показалось, что в глубине коридора что-то трещит, оттуда доносится дыхание взрыва, но специальный репортаж про ветеранов уже заканчивался, и теперь ей нужно было рассказать о поющих свиньях, обнаруженных на ферме близ села Кочки где-то в Сибири.
— Необычное событие произошло близ…
В этот момент рыгнул сытый выстрел. Картечь открыла на лбу дикторши третий глаз, и она сползла под стол. Последовала ожесточенная пальба, крики, злобный хохот и голодный мат. Кто-то хриплым стариковским голосом приказал продолжить снимать. Картинка продолжала идти в эфир с видом пустой студии.
В эфире повесилась тишина.
Наконец в кадре возник человек. Всклокоченная борода застыла красным клинышком. В смеющихся голубых глазах гуляла священная воинская ярость. В руках у него была двустволка с оптическим прицелом. На нём бантиком топорщилась георгиевская ленточка, заляпанная чужой кровью. Человек грозно нахмурил брови. Это был Дед. Живой, злой и здоровый. Он сплюнул, по-волчьи зыркнул в камеру и проговорил:
— Думали я мертвец? Думали, нет меня больше? А вот выкусите! Я ещё спляшу на ваших ёбанных могилах.
Володя Злобин